Общество
Дебош на базаре и ОПГ конокрадов: криминал в Челнах до революции
Кто и как нарушал общественный порядок в Мензелинском уезде, куда входили Челны, рассказал в своих работах известный ученый Владимир Ермаков.
История нашего города и края состоит не только из созидательных событий, но и криминальных.
Пили ведрами, развлекались драками
Пьянство было настоящим бичом дореволюционной России. В начале ХХ века в Мензелинском уезде насчитывалось 57 казенных винных лавок и 13 частных питейных заведений. В 1911 году, например, в среднем было выпито на душу населения 0,26 ведра вина (по губернии — 0,38), а расход на это составил 2 рублей 18 копеек (по губернии — 3 рубля 13 копеек).
В Мензелинском уезде пили меньше, потому что основную часть жителей составляли мусульмане. Более того, местные татары требовали закрывать трактиры и даже базары, потому что после удачной торговли у людей появлялись деньги, которые пускали на кутежи. Они нередко заканчивались скандалами и драками.
Так, жители деревни Биклянь-Бичуриной на своем сходе 12 декабря 1885 года потребовали у уездных властей закрыть в их селении базар и питейное заведение. Свое решение сельчане объяснили тем, что на базар они ездят в Бережные Челны и Елабугу, а трактир наносит ущерб «нравственному здоровью народа и несовместим с религиозными устоями ислама». Уездное начальство пошло навстречу сельчанам – базар и трактир закрыли. Однако такие случаи были единичными.
Между тем, Мензелинск считался самым пьющим городом Уфимской губернии. За год на каждого жителя здесь приходилось в среднем 2,18 ведра (!) вина (для сравнения: в Бирске — 1,68, в Златоусте — 1,32, в Уфе — 1,04). Столь высокие показатели объяснялись тем, что львиная часть спиртного выпивалась в дни всероссийской ярмарки (28 декабря– 9 января каждого года).
Стащили у пьяного 37 рублей
В дни ярмарок резко увеличивалось и число преступлений. Наиболее распространенными были мошенничество, кражи, незаконная торговля водкой и самогоном, а также захудалыми товарами. Нередко (как и в наши дни) в неприятные истории люди вляпывались на пьяную голову.
Так, осенью 1878 года крестьянин М. Г. из деревни Бичуриной пьяным ехал домой из Бережных Челнов. По дороге заснул в одном из урочищ. А когда проснулся, не нашел в кармане 37 рублей. По заявлению пострадавшего полицейский урядник 2-го участка Мысово-Челнинской волости Кислинский провел немедленное расследование. Он вышел на крестьян села Бережные Челны Е. и М., которые в тот день пасли скот недалеко от места кражи. Подозреваемые недолго упирались и сознались в содеянном.
Челнинцы совершали и другие неблаговидные поступки. 17 мая 1879 года полицейским урядником был задержан крестьянин Т. С. из села Ольгино (Иштеряково). Он продавал лошадь, на которую у него не было документов (они выдавались волостными правлениями). На допросе Т. С. показал, что лошадь купил недавно в деревне Сасыбрун Поисевской волости, а расписку оформить забыл. Однако столь наивное объяснение никого не убедило. Урядник без труда установил, что лошадь не куплена, а украдена в селе Килееве Белебеевского уезда у солдата Кондратия Серебрякова.
Лошадиный рэкет и мясо без документов
Вообще скотокрадство в деревнях в те времена стало распространенным явлением. Только за один 1902 год в Мензелинском уезде было украдено 208 лошадей, 25 голов крупного рогатого скота (в том числе в Мысово-Челнинской волости – 113 и 2, в Бетькинской — 8 и 2, в Бишинды-Останковской — 12 и 2 соответственно). Почти всегда скот похищали у крестьян, помещичьи усадьбы практически не страдали.
Общий ущерб в тот год крестьян составил более 8,5 тысячи рублей. При этом только 8 процентов похищенного скота полицейские нашли и вернули хозяевам.
Это говорит о профессионализме похитителей. Действовали они четко и слаженно. Скот, как правило, уводился в укромные места, где его и закалывали. Мясо сдавалось знакомым мясникам, кожа — местным скупщикам. Продавали похищенное и на базарах, но это было рискованно. Хотя порой удавалось подкупами и угрозами выправить нужные документы, и тогда бояться было нечего.
Младенец-подкидыш и мертвый мужик
Совершались в округе Челнов и другие злодеяния. О них рассказала газета «Уфимские губернские ведомости» в разделе «Хроника происшествий». Вот несколько сообщений: «В ночь на 27 августа (1875 года) к дому крестьянина из села Бетьков Василия Егорова неизвестно кем подкинут младенец мужского пола», «5 января (1876 года) около села Орловка найден мертвым крестьянин этого села Василий Утробин». Справедливости ради надо отметить, что удельный вес тяжких преступлений (убийств, нанесения увечий и других) в целом был невысок.
С начала XX века заметно увеличилось число случаев незаконного хранения холодного и огнестрельного оружия. С проявлениями преступных наклонностей людей боролись (и отчасти небезуспешно) полиция и религия.
Преступников сажали в местные тюрьмы. В Уфимской губернии в начале XX века было шесть тюрем — их называли исправниками. В Мензелинске располагалась каменная тюрьма. Суточные сухпайки для заключенных обходились в 7 копеек.
Арестантам приходилось выполнять самую разную работу: они шили форму для заключенных и надзирателей, трудились в качестве плотников, кузнецов, слесарей, сапожников, столяров.
В XIX веке появился такой вид криминальной деятельности, как лошадиный рэкет. Похищенная с помощью наводчика лошадь пряталась. А хозяину тот же наводчик осторожно, но настойчиво намекал на выкуп. Если хозяин проявлял покладистость и платил — лошадь ему возвращалась, а если отказывал — пропадала. Сельчане чаще всего знали или наверняка догадывались о личностях конокрадов, но поделать ничего не могли. К тому же лошадиные угонщики нередко сбивались в воровские шайки и держали людей в страхе.
Фото: Набережые Челны. История. Фото и кинохроника
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа























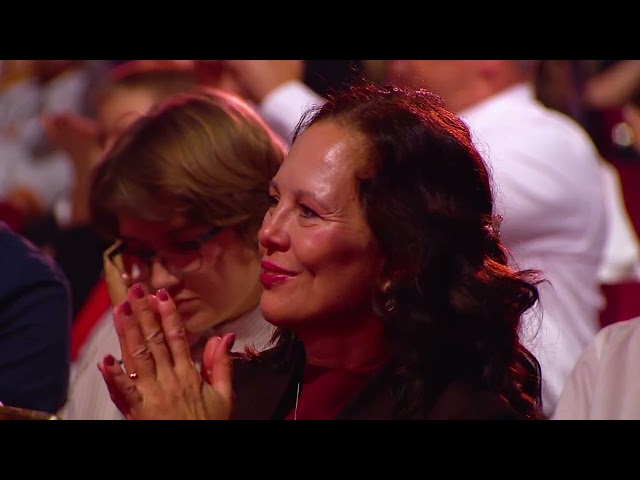
Комментарии (0)